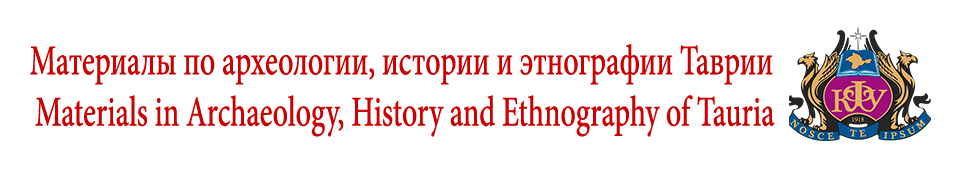Крым на съезде представителей губернских ученых архивных комиссий в 1914 году
Crimea on the 1914 Congress of the Representatives of the Governorate Scholarly Archival Commissions
JOURNAL: Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria, 2024, Volume XXIХ
Publication text (PDF): Download
AUTHORS:
Nepomniashchii Andrei A., V. I. Vernadsky Crimean Federal University; Sh. Marjani Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan
TYPE: Article
DOI: https://doi.org/10.29039/2413-189X.2024.29.500-509
PAGES: from 500 to 509
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: congress of the representatives of the governorate scholarly archival commissions and the corresponding institutions, Russian Society for History, A. I. Markevich, Taurida Scholarly Archival Commission, governorate historical archive, archive reform
ACKNOWLEDGMENTS:
ABSTRACT (ENGLISH): The governorate public archival societies (commissions) established in Russia from 1884 on possessed an uncertain status and problematic financial situation, which lead to further “archival disorder” and the loss of documents important for the history of Russian provinces. Russia several times attempted to make an archival reform by subordinating provincial archives to central institutions. The next stage in the implementation of this idea was the transfer of methodological guidance over public provincial archivists from the St Petersburg Archaeological Institute to the Russian Historical Society (1912). On May 1914, the latter organized the congress of the representatives of the scholarly archival commissions and the corresponding institutions to attract the representatives of 31 academic archival institution from the most regions of the Russian Empire. For the first time, this forum made those who participated in the creation of provincial archives to discuss the questions challenged by the local scholarly societies and to offer particular measures capable of improving the situation. A. I. Markevich as the chair of the Taurida Scholarly Archival Commission represented the Taurida governorate. The author of the article has introduced into the scholarship two previously unknown papers by the leader of Crimean regional studies addressing the state of archival affairs in the peninsula. They are extraordinary important as an historical source on the Taurida Scholarly Archival Commission and on the acquisition to the governorate’s historical archive in Simferopol. The persistence of the local archival activists resulted in the significant increase of state subsidies and the granting of one-time allowances for the organization of archival services in governorate centres. The First World War prevented the realization of the further plans for archival reform.
С 1884 года в Российской империи благодаря подвижничеству архивиста и археографа, председателя Археографической комиссии, академика Николая Васильевича Калачова (1819–1885) стали создаваться общественных научные организации, которые ставили своей целью учреждение на местах губернских исторических архивов. Седьмой по времени основания стала Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК), торжественно открытая в январе 1887 года в Симферополе.
Статус губернских ученых архивных комиссий в системе российских общественных организаций и учреждений был неоднозначным. Вся деятельность комиссий регулировалась специальным положением, принятым Комитетом Министров 13 апреля 1884 года. В нем декларировалось восемь позиций. Первый раздел определял, что комиссии учреждаются для «сосредоточения и вечного хранения архивных дел и документов, не требующихся для текущего делопроизводства, но более ли менее важных в историческом отношении» [2, с. 189]. Эти обязанности более подробно раскрывал пункт пятый. Таким образом, определялось, что основной задачей для губернских ученых архивных комиссий было собирание и систематизация архивных документов. При этом пункт седьмой положения давал определенные инициативные возможности комиссии, которые «независимо от прямой своей обязанности могут, по местным обстоятельствам, включать в круг своих знаний разыскания, описания и объяснения всяких других памятников старины».
Важно понимать, что массовые научно-исторические и просветительские организации российской провинции были исключительно общественными структурами. Кроме создания архивов объединенные там краеведы занимались организацией музеев, библиотек, проведением археологических раскопок, обследованием и охраной недвижимых памятников, контролем за реставрацией, сбором этнографического материала и подготовкой трудов. Поэтому практическая работа ученых архивных комиссий сразу же вступила в противоречие с исключительно архивными задачами, которые ставились перед архивными комиссиями положением Комитета Министров от 13 апреля 1884 года. На практике по всей стране появлялись не сугубо архивные, как намечалось, а историко-краеведческие общества [3, с. 17–23].
Каким образом комплектовались средства этих общественных ученых организаций, рассмотрим на примере Таврической ученой архивной комиссии. Таврическое губернское земство ежегодно выделяло субсидию 300 рублей. Аналогичную субсидию в 100–150 рублей комиссия получала от Симферопольского городского управления. Для всех губернских комиссий была предусмотрена «казенная субсидия», она составляла 200 рублей. Существовали еще небольшие членские взносы и средства от продажи «Известий». Практически все перечисленные средства уходили на подготовку и издание новых выпусков научных исследований комиссии. Поэтому ТУАК практически постоянно была стеснена в средствах. В 1912 году Таврическое губернское земство удвоило сумму субсидии. Это позволило комиссии активизировать издательскую деятельность. В свет вышли сразу три выпуска «Известий» (№№ 47–49) [8, с. 35–74].
Отсутствие у комиссий официального статуса для разбора архивных дел в учреждениях (было только положение общественных подвижников развития краеведения) часто приводило к тому, что местных любителей старины в ведомственные архивы зачастую не допускали. Тяжелое положение с помещениями также негативно сказывалось на работе комиссий. Теснота и другие неблагоприятные условия задерживали прием, приведение в порядок и описание дел. Частые переброски из одного помещения в другое приводили документы в «расстройство», уничтожая плоды работы членов комиссий за длительное время и нанося ущерб историческим источникам. Так, в Симферополе краеведы обосновались в помещении Таврической губернской земской управы, которое им предоставил первый руководитель Комиссии, председатель земской управы Александр Христианович Стевен. Однако после отъезда чиновника на службу в столицу Комиссию несколько раз переводили из комнаты в комнату, выделив для хранения архива чердак, а крупные памятники лежали во дворе управы. Несколько лет пройти в комнату для заседаний можно было только через квартиру, где проживала семья дворника.
Неопределенность прав и обязанностей мешала губернским комиссиям сделать работу по упорядочению архивного дела эффективной. Даже сам метод комплектования исторических архивов путем отбора некоторых дел из числа подлежащих уничтожению и путем случайных поступлений документов являлся неудачным. Созданные таким путем исторические архивы являлись, скорее, коллекциями документов. Ни одной из губернских комиссий, обладавших крупными комплексами дел, не удалось завершить приведение их в порядок, а также составить к ним должный научно-справочный аппарат. Все это затрудняло использование отобранных бумаг в научных целях [15, с. 118–119]. Санкт-Петербургский археологический институт, на который было возложено научное патронирование над архивными обществами, с этой миссией явно не справлялся. В 1912 году методическое руководство над комиссиями было передано Русскому историческому обществу, представители которого энергично взялись провести в стране архивную реформу.
Особая комиссия по сохранению местных архивных материалов Русского исторического общества в течение 1912–1913 годов произвела анкетирование всех действующих в стране губернских ученых архивных комиссий на предмет открытия и состояния местных архивов. Сведения были получены о состоянии двух с половиной тысяч мест хранения документов по всей империи. И это была только 1/12 часть архивохранилищ, существовавших в губерниях империи. Опрос подтвердил факт тяжелого состояния архивного дела, на что ранее активно обращал внимание архивист, профессор истории русского права Дмитрий Яковлевич Самоквасов (1843–1911). Им был разработан проект архивной реформы в стране, предусматривавший образование централизованной системы управления архивами, перевод частных и региональных архивов под государственный контроль [1; 13]. Особенно удручало то, что архивы продолжали гибнуть даже в тех губерниях, где уже развернулась работа губернских ученых архивных комиссий. И этого комиссии скрыть не могли. Анкетирование еще раз продемонстрировало, что «архивное нестроение» в России по-прежнему оставалось масштабным. Для обсуждения наиболее острых проблем в работе ученых архивных сообществ Русское историческое общество выхлопотало в 1914 году разрешение на проведение в столице всероссийского съезда их представителей.
Съезд проходил 6–8 мая 1914 года в столице. Арсений Иванович Маркевич, избранный делегатом от Таврической ученой архивной комиссии, по возвращении в Симферополь выступил перед коллегами с развернутым докладом о работе ученого собрания. По мнению симферопольского архивиста, съезд занял, «несомненно, важное место в деле преобразования архивного дела в России» [6, с. 323].
В Санкт-Петербург прибыли представители от 31 организации со всей страны (представители губернских ученых архивных комиссий и местных исторических обществ, которые именовались иначе, но, по сути, занимались созданием губернских исторических архивов) [РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 113. Л. 184–184 об.]. Первое общее собрание членов съезда – членов Императорского Русского исторического общества и представителей архивных комиссий, носившее неформальный характер, состоялось накануне открытия съезда, вечером 5-го мая, в залах Мариинского дворца, где работал Государственный совет. Каждый делегат получил именной «билет участника» [РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 113. Л. 76].
Собравшиеся были, по выражению Маркевича, «одухотворены мыслью о том, что нестроение архивного дела у нас близится к концу», что реформа местных архивов, о которой говорили уже много лет, серьезно поставлена на очередь, и что подвижки провинциальной интеллигенции в этом деле не пропали даром [6, с. 324–325]. Гостей встречали товарищ председателя Русского исторического общества и председатель Особой комиссии в нем, историк, председатель Государственного совета Анатолий Николаевич Куломзин, член Государственного совета Юлий Александрович Икскуль-фон-Гильдебанта, историк, архивист, один из активных пропагандистов архивной реформы Николай Владимирович Голицын, военный историк, архивист Сергей Алексеевич Панчулидзев, историк Сергей Михайлович Середонин и другие видные деятели исторической науки той эпохи. Для Маркевича особенно радостна была встреча с профессором Сергеем Федоровичем Платоновым, который также приветствовал прибывших. Двух неординарных деятелей эпохи связывала многолетняя дружба [9]. После экскурсии по залам Государственного совета и Совета министров, участников ждал чайный стол. Открытие съезда состоялось 6 мая во дворце председателя Императорского Русского исторического общества великого князя Николая Михайловича.
Съезд открылся докладом профессора С. Ф. Платонова. Это малоизвестное выступление ученого, между тем, было программным для собравшихся провинциальных деятелей – организаторов архивного дела. Историк выделил роль уникальных местных источников, абсолютно неизвестных широкому кругу исследователей, для восстановления истории страны. Он отметил: «Прежде, чем приступить к работам, можно сказать, технического характера, по вопросам, по которым вы, съехавшиеся сюда, являетесь наиболее компетентными людьми, мне бы хотелось установить на занятия Съезда известную точку зрения, которую я, как профессор-историк, быть может, выскажу с некоторой компетентностью и правдоподобностью. Материалы, которые хранятся на местах, иногда в глухих местах нашей родины, имеют огромное значение, но, за немногими исключениями, материалы эти находятся в обороте очень узкого круга населения или администрации, а чаще совсем не находятся ни в каком обращении. Может быть, вы полагаете, что эти материалы прежде всего имеют исключительно местное значение, значение для того края, которому они принадлежат? Я хотел бы, как общий историк России, сказать, что эти местные материалы, и чем дальше, тем больше, получают в общенаучном обороте все большую и большую важность. Мы, историки, знаем, что среди запасов, которые нам дает архивный фонд центральных архивных организаций, нам нельзя бывает спуститься на надлежащую глубину изучения народной жизни и надо идти на места и там искать материалы для того, чтобы понять, как должно, явления местной социальной, или даже государственной, жизни. <…> Местные документы, как бы они на первый раз не казались мелкими и ничтожными, составляют первостепенную научную важность в глазах историка, они представляются такой же драгоценностью русского государства и общества, как и фонды центральных архивов. Когда мы приступаем к работе над этим материалом, будем относиться к нему с самым большим уважением и с самыми большими научными надеждами. Лично я думаю, что мы имеем дело с охраной документов первостепенной научной важности, цену которых может определить только будущий историк, тот, который введет их в научный оборот. Так вот, это чувство уважения к тому материалу, о котором мы будем говорить, я хотел бы передать вам от лица общих историков, и хотел бы, чтобы это сознание сопровождало наш Съезд от начала и до конца» [11, с. 3–5].
Как было оглашено на съезде, «…Ответы, полученные в большинстве от губернских ученых комиссий, выяснили полное нестроение архивного дела в России и обрисовали крайне печальное состояние большинства местных архивов, особенно уездных и волостных. Более чем обычны случаи, когда архивы помещались в подвалах, на чердаках, в старых разваливающихся зданиях, иногда даже в конюшнях». Нередкой были ситуации, когда сваленные в груды бумаги желтели и тлели от сырости, поедались мышами и крысами, разносились ветром. Архивы нередко горели, иногда по нескольку раз. порочной была сама система, когда все архивы в провинции были ведомственными и хранились при учреждениях. Немногие учреждения относились с должным вниманием к хранению бумаг. Обыкновенно архив обременял учреждение, а лица, управляющие или заведующие архивом, редко были компетентны и порой не знали содержания архива и не вели описи. «Огромное большинство архивов тесны и потому нередки случаи уничтожения старых дел для того, чтобы дать место другим, более новым, но и этих последних через несколько лет ждет та же участь: и они будут уничтожены – проданы на вес. В итоге большинство уездных архивов заключает в себе дела лишь последних десятилетий. Такой порядок вещей продолжаться не должен. На Западе часто люди среднего состояния легко восстановляют свои родословные с XIV в., а у нас это не всегда могут сделать даже представители знатнейших родов», – отмечали ораторы [РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 113. Л. 127–128].
Профессор С. М. Середонин высказался по вопросу программы съезда и указал на важность выработки программы обзора архивов, категории архивов, решения вопросов о том, какие архивы считать удовлетворяющими своему назначению, об управлении архивами. После этого съезд приступил к занятиям по следующей программе: 1. Порядок производства осмотров местных архивов. Условия, которым должны удовлетворять архивные помещения и управление архивами. 2. Полномочия Губернских ученых архивных комиссий, уничтожение старых дел, отбор дел, ревизия архивов. 3. Материальное положение архивных комиссий. Должностные лица при комиссиях. 4. Устройство центральных (в губернских городах) исторических архивов. 5. Объединение деятельности ученых архивных комиссий [РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 113. Л. 68].
Все вопросы, кроме пункта первого, рассматривались предварительно в избранной съездом комиссии, в которой участвовал и А. И. Маркевич. Опубликованные два выступления лидера крымских краеведов (фактически две отдельные статьи) были выявлены только сейчас. Они не вошли в список опубликованных трудов ученого [7, с. 66–96]. Любая вновь выявленная работа крупного крымоведа представляет несомненный интерес. Особого внимания заслуживают эти публикации. Арсений Иванович, на практике знавший проблемы местного архивного дела, предлагал реальные шаги к реформированию ситуации.
В первом выступлении А. И. Маркевич остановился на состоянии местного архива: «<…> я не могу изложить всего того, что я мог бы сказать о положении Таврической ученой архивной комиссии. По поводу архива я скажу, что ныне он занимает помещение меньше половины пространства между столами этой залы, и в этом помещении собрано несколько тысяч архивных дел, а теперь нам предстоит взять 70000 дел из губернского архива, и мы положительно не знаем, куда девать дела, которые должны быть сейчас же выделены. Придется оставить их на старом месте, без уверенности, что с ними будет. Затем я коснусь вопроса о положении ученых архивных комиссий. Несомненно, что мы должны выработать инструкцию и тут является вопрос, что такое архивная комиссия: ученое это общество, как гласит наш титул, или учреждение, имеющее официальный характер и ведающее государственными интересами, с которыми должны считаться и все правительственные учреждения? Как ученое общество, мы заботимся о сохранении памятников старины – вещественных и письменных, описывая, исследуя, издавая труды и т.п. Но когда дело касается спасения государственных, исторической важности документов, на которых зиждется наша история, то тогда это уже переходит за границы нашей деятельности, как местного ученого общества, преследующего культурные задачи в том круге, где ему приходится существовать и применять свои знания. И, мне кажется, первый пункт, который должен быть в нашем положении, в нашем уставе, должен выяснить наше положение, потому что и земские учреждения считаются с нами, как с культурным обществом, приходят в наши заседания, слушают рефераты, помогают; но когда дело касается сохранения дел, спасения исторических документов, то тут дело выходит уже за границы этого чисто культурного ученого общества, и нам нужно иметь такие права и такие обязанности, которые позволяли бы, вернее, заставляли бы представителей административных учреждений, начальников отдельных частей считаться с нами и помогать не только из любезности или по знакомству, но и по обязанности, потому что, как было сказано до перерыва, хотя отношения теперь существуют хорошие и сложились удачно, но личные отношения могут измениться и не только в столице, но тем более в провинции, и тогда положение осложнится и затруднится. Так что этот вопрос заслуживает рассмотрения и выяснения. Конечно, когда будут устроены центральные архивы, то положение комиссий значительно облегчится, потому что при центральных архивах будет кружок лиц, которые по своему положению будут занимать соответствующие места, но пока нет на местах крупных архивных учреждений, то положение наше очень затруднительно» [5, с. 35–36].
Положение дел в Симферополе практически не отличалось от других российских регионов. По первому вопросу съезд принял решение («положил») продолжать уже начатое многими учеными архивными комиссиями обследование местных архивов в той последовательности, которой требует состояние архивов в данной местности, начиная с тех, которым угрожает гибель и которые имеют существенное значение для жизни края. Члены собрания указали на желательность определить районы для работы каждой конкретной комиссии, по возможности ограничивая их пределами одной губернии для каждого общества. Для руководства и единства работы съезд просил Особую комиссию при Русском историческом обществе выработать подробную программу обследования архивов и составить опросные листы. Съезд постановил начать обследование архивов опросами, потом сделать осмотр их членами комиссий и, наконец, изучать архивы подробно. Особое внимание было обращено на архивы уездных съездов, а также частные архивы многих дворянских фамилий, которые часто теперь гибнут при продаже имений, и на архивы волостных правлений, более других необеспеченные от порчи и гибели.
По второму вопросу съезд признал, что полномочия комиссий определены законом «весьма неясно», и что поэтому работа комиссий во многом зависит от случайных отношений. Особенно подробно съезд остановился на проблеме уничтожения старых дел. Делегаты объективно замечали, что при учреждении архивных комиссий уставом предусматривалось правило, по которому дела архивов могут быть уничтожаемы ведомствами только по соглашению с комиссиями. Однако последними циркулярами министерств это обыкновение «было поколеблено». Съезд решительно высказался за необходимость обязательного просмотра учеными архивными комиссиями описей, а если нужно, то и самих дел, предназначенных к уничтожению. Съезд признал необходимым издать инструкцию относительно разбора дел и отбора их в исторический архив. Для этого признали необходимым пересмотреть инструкцию 1886 г. и последующие циркуляры 1909 и 1910 гг. и уничтожить деление дел на разряды, так как зачастую по невнимательности или разгильдяйству писарей в конторах дела, подлежащие вечному хранению, переходили в разряд подлежащих уничтожению. Съезд нашел необходимым определить, что ученые архивные комиссии имеют право осматривать и изучать архивы всех ведомств, не исключая земских, городских, духовных, судебных, сословных, коммерческих, а также благотворительных и других учреждений, подлежащих регистрации по закону об обществах и союзах, по предварительному в каждом отдельном случае сношению с губернатором или начальном учреждения и давать указания относительно составления описей. Постановлено, что комиссии имеют право, осведомившись о плохом состоянии того или другого архива, немедленно информировать об этом губернаторов и начальников учреждений [5, с. 325]. Закрывая дискуссию, профессор Московского университета по кафедре истории русского права, архивист Александр Никитич Филиппов в своей речи указал, что в строго научном смысле неважных для науки архивных дел нет и высказал пожелание, чтобы все дела, подлежащие уничтожению, передавались в архивные комиссии для хранения и изучения.
По третьему вопросу – о состоянии ученых архивных комиссий – опять выступал А. И. Маркевич, который отметил: «Здесь было обращено внимание высокого собрания на те материальные условия, которые лишают архивные комиссии возможности удовлетворять тем задачам, которые им поставлены. Из всех губернских архивных комиссий положение Таврической самое печальное. Если представитель Ставропольской комиссии сказал, что положение их комиссии исключительное, то такое же исключительное положение и Таврической. Таврическая губерния богата не только памятниками письменной старины, но она еще более богата памятниками вещественными. И архивная комиссия занялась как собиранием архивных материалов, так и собиранием предметов старины. Мы в течение 25 лет организовали музей древностей и спасли до 10 тысяч предметов старины. Между тем, бюджет наш состоит из 200 р. казенной субсидии, которую мы получаем в течение 3-х лет, затем из пособия губернского земства 400 р., от Симферопольского земства 100 р. и из 600–700 р. случайных пожертвований. Затем, на этот год Императорское Русское историческое общество исключительно на архивные дела ассигновало 2000 р. Все должностные лица нашей комиссии до сих пор, в течение 25 лет, трудились совершенно бесплатно, ни одной копейки никто не получил, ни заведующий архивом, ни правитель дел. Так складывались обстоятельства, находились люди, которые уделяли свое свободное время этому делу. Помещения у нас нет, мы ютимся в маленьких комнатах; передняя служит библиотекой, но она так мала, что зимой даже пальто снять нельзя, так как некуда повесить. Затем, две маленькие комнатки для музея и помещение для архива дел. Таково наше положение. Чтобы организовать как следует дело, т. е. устроить свой архив и расположить хорошо те дела, которые мы теперь, благодаря субсидии Императорского Русского исторического общества, будем извлекать, мы по самому скромному расчету должны считать: на помещение не менее 1000 р.; затем, на опись архивных материалов, свозку дел и т.д. около 1000 р.; потом на вознаграждение должностных лиц, архивариуса, заведующего музеем; затем, на издание трудов потребуется также известная сумма. Мы, несмотря на наше тяжелое положение, успели издать 50 томов наших трудов, пятидесятый я имею честь сейчас представить. Все, что мы сумели сделать, мы сделали, пользуясь исключительными обстоятельствами, пособиями единовременными и т.д. Но в дальнейшем так существовать невозможно, отсутствие достаточного помещения исключает возможность дальнейшей работы. Вот в кратких словах все, что я хотел сказать, не касаясь подробностей. При самом скромном расчете нам требуется от 2000–3000 р. для того, чтобы исполнять все те обязанности, которые мы должны нравственно нести» [4, с. 52–53]. Как видим, информация, приведенная председателем ТУАК весьма информативна для полной картины условий организации и финансирования комиссии.
Съезд признал совершенно неудовлетворительным текущее материальное положение комиссий. Констатировалось, что «ныне они существуют на случайные добровольные пожертвования и взносы своих сочленов, имея от казны лишь 200 рублей пособия в год. При таких малых средствах губернские ученые архивные комиссии не имеют возможности уделять что-либо на охрану письменных памятников, на их разыскание и печатание. Тем более, что комиссии имеют и иные культурные задачи: устройство музеев, производство археологических раскопок. Поэтому съезд постановил ходатайствовать об увеличении пособия от казны до 2000–3000 рублей независимо от расхода на помещение комиссии [12, с. 326–327]
О неприглядном положении дел на местах много говорили провинциальные историки. Председатель съезда А. Н. Куломзин резко обрывал докладчиков, проявлявших излишнюю откровенность в формулировках плачевного состояния архивной службы страны или недостаточное чинопочитание. Представители руководства Русского исторического общества пытались доказать прибывшим членам местных научных обществ, что для принципиального улучшения ситуации необходимо проведение всероссийской архивной реформы, а не мелкие хлопоты о получении отдельных финансовых субсидий. Однако, все дебаты на съезде сводились к обсуждению проблем исключительно комиссий на местах. Так, было решено обратиться к верховной власти с просьбой о принятии всех губернских ученых архивных комиссий под свое покровительство. Постановили добиваться обязательного выделения помещений для губернских ученых архивных комиссий, запросить ежегодные денежные субсидии в пользу работы комиссий (3 тысячи рублей в год), а также искать способ расширения допуска представителей комиссий во все местные архивы (для осмотра материала).
Таким образом, на съезде обсуждение архивной реформы свелось в итоге лишь к обсуждению мероприятий по улучшению положения комиссий. Правительство в итоге внесло в Государственную Думу законопроект об увеличении казенной субсидии с 200 до 3000 рублей в год. Кроме того, комиссиям было выдано и единовременное пособие в размере 2000 рублей каждой.
По четвертому вопросу повестки дня съезд признал существенно необходимым, чтобы при каждой комиссии устроен был центральный губернский или областной архив, в который комиссия могла бы помещать дела, признанные ею особенно интересными и ценными в историческом отношении. Предлагалось до учреждения центральных архивов устроить нечто вроде центральных складов архивных дел или депо. Съезд указал ряд мер к обеспечению комиссий казенными помещениями для таких архивов. Договорились, что комиссии должны указать (к сентябрю текущего 1914 г.), какие казенные здания в том или другом губернском или областном городе могли бы быть приспособлены для устройства в них центральных исторических архивов. Однако, в сентябре империя была уже поглощена патриотическим подъемом в связи с вступлением в Великую войну и вопросы интересов общественной службы отошли даже не на второй, а на четвертый план.
К наработкам съезда А. И. Маркевич вернулся, подводя итоги 1914 года на заседании ТУАК. В отчете Комиссии он отметил: «В жизни Таврической ученой архивной комиссии, равно как и в жизни всех губернских ученых архивных комиссий, истекший 1914-ый год имеет особенное значение в смысле обеспечения успехов ее деятельности. По воле Его Императорского Величества, губернские ученые архивные комиссии привлечены к предпринятой Государем Императором реформе архивного дела в России. В истекшем году состоялся первый съезд представителей ученых архивных комиссий, созванный Императорским Русским историческим обществом для выяснения положения архивов на местах и выработки мер, которые дали бы возможность комиссиям правильно и систематично работать в деле охраны письменных памятников нашей истории». По решению съезда обратились к министру внутренних дел с заявлением, что было бы желательно открыть губернские архивные комиссии во всех губерниях, где их до сих пор не имеется, и к министру народного просвещения с выражением пожелания, чтобы было внесено в Государственную Думу представление об ассигновании всем существующим Губернским ученым архивным комиссиям и соответствующим им установлениям по 3000 рублей ежегодных пособий и наем помещений, «на приглашение лиц для постоянных занятий и на опубликование наиболее важных из находящихся у них на хранении документов» [19, с. 263–264].
Таким образом, с переходом научного (методического) руководства над губернскими учеными архивными комиссиями к Русскому историческому обществу воз архивной реформы начал определенное движение. Значительная роль в этом принадлежала ведущим российским историкам, особенно профессору С. Ф. Платонову, сотрудничавшим в РИО. По их инициативе в Санкт-Петербурге в мае 1914 года прошел съезд представителей ученых архивных комиссий и соответствующих им установлений. На форуме состоялся конструктивный диалог между столичными корифеями и архивистами-практиками на местах о причинах «пробуксовки» архивных преобразований в провинции. Комиссии, в том числе и Таврическая, стали получать государственные субсидии, а также единовременную материальную помощь, что облегчило их работу. Был решен и вопрос с помещением для фондов. Однако разразившаяся Первая мировая война не дала реализоваться намеченным планам архивной реформы. Все мероприятия по централизации архивного дела были заморожены.
REFERENCES
- Shchavelev S.P. (eds.). Arkheologiia, istoriia i arkhivnoe delo v Rossii v perepiske professora D. Ia. Samokvasova (1843–1911) [Archeology, history and archival affairs in Russia in the correspondence of Professor D.Ya. Samokvasov (1843–1911)]. Kursk, 2007, 508 p.
- The highest approved position of the Committee of Ministers on April 13, 1884 on the establishment of provincial historical archives and provincial scientists of archival commissions. Simbirskii nauchnyi vestnik [Simbirsk Scientific Bulletin], 2014, vol. 1(15), pp. 189–190.
- Makarikhin V.P. Gubernskie uchenye arkhivnye komissii Rossii [Provincial scientists archival commissions of Russia]. Nizhnii Novgorod, Volga-Vyatka Book Publishing House, 1991, 120 p.
- Markevich A.I. On the situation of the Tauride Scientific Archival Commission. Trudy Pervogo s”ezda predstavitelei gubernskikh uchenykh arkhivnykh komissii i sootvetstvuiushchikh im ustanovlenii, 6–8 maia 1914 goda [Proceedings of the First Congress of Representatives of Provincial Scientific Archival Commissions and their Corresponding Regulations, May 6–8, 1914]. St. Petersburg, 1914, pp. 52–53.
- Markevich A.I. On the state of the provincial archive in Simferopol. Trudy Pervogo s”ezda predstavitelei gubernskikh uchenykh arkhivnykh komissii i sootvetstvuiushchikh im ustanovlenii, 6–8 maia 1914 goda [Proceedings of the First Congress of Representatives of Provincial Scientific Archival Commissions and their Corresponding Regulations, May 6–8, 1914]. St. Petersburg, 1914, pp. 35–36.
- Markevich A.I. On participation in the congress of representatives of scientific archival commissions and other societies. Izvestiia Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii [News of the Taurida Scientific Archival Commission], 1914, vol. 51, pp. 323–327.
- Nepomniashchy A.A. Arseniy Markevich and the development of the historical and local history bibliography of Crimea in the late XIX – early XX centuries. Istoriko-bibliograficheskie issledovaniia [Historical and bibliographic research], 2002, vol. 9, pp. 66–96.
- Nepomniashchy A.A. Arsenii Markevich: stranitsy istorii krymskogo kraevedeniia [Arseny Markevich: pages of the history of Crimean local history]. Simferopol’, Biznes-Inform Publ., 2005, 432 p.
- Nepomniashchy A.A. Akademik S. F. Platonov i krymovedenie [Academician S.F. Platonov and Crimean studies]. Belgorod, Konstanta Publ., 2018, 216 p.
- Report on the activities of the Tauride Scientific Archival Commission for 1914. Izvestiia Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii [News of the Taurida Scientific Archival Commission], 1915, vol. 52, pp. 262–265.
- Platonov S.F. Speech at the opening of the congress. Trudy Pervogo s”ezda predstavitelei gubernskikh uchenykh arkhivnykh komissii i sootvetstvuiushchikh im ustanovlenii, 6–8 maia 1914 goda [Proceedings of the First Congress of Representatives of Provincial Scientific Archival Commissions and their Corresponding Regulations, May 6–8, 1914]. St. Petersburg, 1914, pp. 3–5.
- Minutes of the meeting of the Taurida Scientific Archival Commission of May 29, 1914. Izvestiia Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii [News of the Taurida Scientific Archival Commission], 1914, vol. 51, pp. 316–333.
- Samokvasov D.Ia. The current state of scientific development of ancient archival materials. Trudy trinadtsatogo Arkheologicheskogo s”ezda v Ekaterinoslave, 1905 [Proceedings of the Thirteenth Archaeological Congress in Yekaterinoslav, 1905]. Moscow, 1908, iss. 2, pp. 153–165.
- Congress of representatives of provincial scientific archival commissions. Trudy Saratovskoi uchenoi arkhivnoi komissii [Proceedings of the Saratov Scientific Archival Commission], 1914, vol. 31, pp. 221–224.
- Tsemenkova S.I. Istoriia arkhivov Rossii s drevneishikh vremen do nachala XX veka [The history of Russian archives from ancient times to the beginning of the twentieth century]. Ekaterinburg, Ural University Publ., 2015.